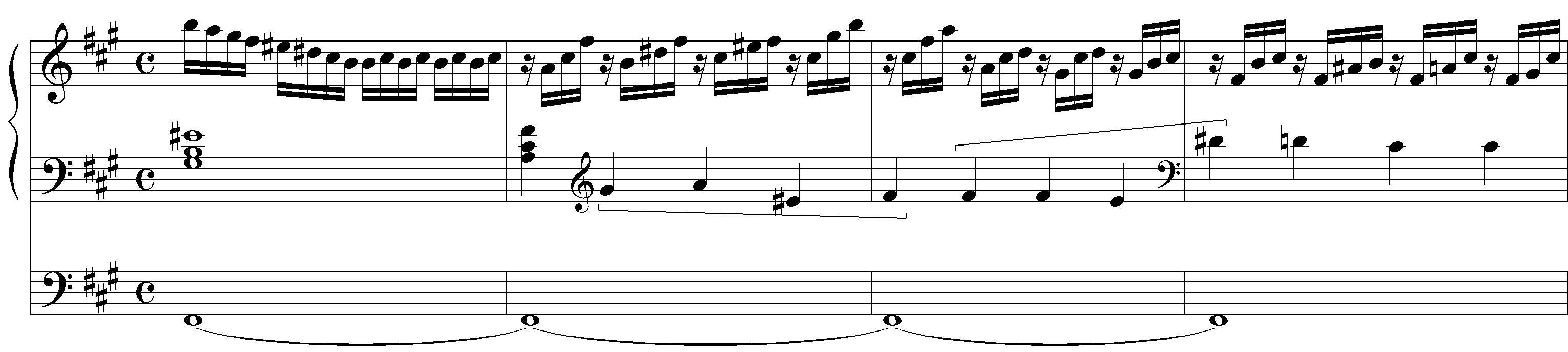
Казачков Б.С.
Об органных Прелюдиях и фугах И. С. Баха.
К возможной их типологии (этюды).
Фрагмент
Святителю Николаю,
архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу,
посвящается
Под словом "этюды" здесь обозначается не музыкальное упражнение, а литературный (или живописный) жанр — скорее наброски, эскизы, нежели что-то фундаментальное и законченное. Эти строки можно было бы еще обозначить как "записки", "заметки", "замечания" к чему-либо более основательному и очерченному. Но, пока этого фундаментального нет, пусть явятся эти строки...
Они не есть нечто научное или педагогическое или методическое. Равным образом, заключенное в них не есть нечто непререкаемое, не может послужить неким путеводительным руководством. Это — размышления или наблюдения, которые мы пытались облекать в некую художественную форму, не лишенную местами даже элемента беллетристики, а также, в известной мере, попытка говорить на русском языке — не переводном с иностранного — об этой до сих пор чуждой и странной нам, русским, области музыки — о музыке органной, о Прелюдиях и фугах Иоганна Себастиана Баха.
Интроит
Вся вообще музыка для органа — всех времен и народов, где только есть церковь с органом — разделяется на музыку Богослужебную - и внеБогослужебную. Для лютеранской церкви, в которой основой молитвенного пения является хорал, это, соответственно — музыка хоральная и свободная (т. е., не связанная с хоралом). Здесь повествуется о музыке свободной.
Но и свободная органная музыка не освобождается до конца от "благого ига и легкого бремени" (срв.: Мф. 11,30) — вести людей к Богу, облегчать им путь к Нему, размягчать и расплавлять окаменевшие души, да Дух Божий "приидет и вселится в ны". Это пусть поймет всякий, желающий сесть за органный пульт. Орган, в широком смысле — инструмент Богослужебный. Не везде "конфессионально-церковный" (как, например, у нас, в России), но везде — Богослужебный. Орган, на котором не служат Богу (так или иначе), а служат себе — для собственного или себе подобных — редкостного, интеллектуального, какого хотите — музыкального услаждения или ублажения или для каких-либо иных, культурно-просветительских и прочих, целей — такой орган есть пустая канарейка, странно-занятная музыкальная шкатулка, тем более бесполезная и вредная, чем дальше уходит он от возвышеннейшей и безмернейшей задачи, возложенной на него — служения Богу.
Это должен понимать всякий органист. Он должен отыскать в сердце своем этот орган (да простится невольный каламбур) служения Богу и его поставить сердцем своей игры. Остальное приложится.
Служить Богу — это значит молиться, говорить нечто сердцем своим. В Церкви Православной Восточной нет органа, но есть хор, который в известной мере соответствует органу в церкви Западной. Но хор православный — это "орган словесный", славление Бога, Богослужение неотделимо в Православной Церкви от слова; логос, ум, смысл неотделимы в Православном пении от тона, мелоса, музыки — как неразделимы — в цельном человеке — веления разума и движения сердца. Не так в церкви Западной. Там к Богослужению наряду с хором (который в
том или ином храме часто вовсе отсутствует) привлекается и некое "бессловесное", "бездушное", "механическое" орудие - орган. Но и это орудие должно заставить говорить. И оно, славя и воспевая Бога, должно как бы произносить какие-то слова, обращаться с ними к слушателям, исповедывать, проповедовать, со-общать, т. е., дело Богослужения, Бого-общения делать все-общим, все-охватным.Но, могут возразить: любая музыка в конечном счете служит Богу. Это — всего лишь прекрасная фраза. Музыка светская, мирская служит прежде всего себе самой (в своих слушателях), а затем уже, как бы поневоле, и Богу, ибо так уж устроено Им, что, по беспредельной благости и всемогуществу Его, все служит Ему, возвращается и приходит к Нему. Орган в самом тесном и непосредственном смысле, по прямой своей обязанности и месту, служит не себе, а Богу и только Богу. В этом состоит коренное отличие музыки органной (как и вообще церковной) от всей остальной. Служение Богу, а не себе есть оставление себя и своих задач, красот, надобностей, коль скоро это не нужно, не угодно Богослужению — отвержение себя, само-пожертвование. Поэтому и говорить орган должен не для самого себя, но так и столько, сколько это нужно для Бого-служения. Сам тембр органа в его абстрактности и несопоставимости с любым иным инструментальным или вокальным тембром есть отвлечение, отделение от звучания как цели самой в себе, так же как и в церковном пении и молитве архаический церковно-славянский язык или латынь есть отделение Богослужебной речи от всякой другой. Если мы, войдя в храм, стали бы, дав волю внешним чувствам, любоваться всеми его архитектурно-живописными и музыкальными красотами, то это любование само в себе и для себя разрушило бы нашу молитвенность; вместо обращения к Богу мы обратились бы к своему собственному восприятию вещей внешних, к самим себе. Тогда как, напротив, все благолепие храма — для Бога; все, что есть в храме — оно есть и его как бы нет, все это воздействует на нас, но так, до того момента и в той мере, чтобы воз-греть, воз-жечь в нас молитву, Бого-общение, Бого-служение.
Отсюда отличие органной музыки, как церковной, от всякой иной: она в своем звучании как бы ирреальна и трансцендентна, как бы отстранена от феномена своего фактического пребывания в пространстве и времени, создает в себе самой какое-то особое, отделенное от физического, измерение пространства и времени и в известный момент как бы растворяется в тишине молитвенного Богообщения.
"Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит..." (Ио.3,8). Эти слова Господа нашего Иисуса Христа да позволит нам Господь применить к музыке органной. И она как бы не имеет начала и конца и как бы возникает из молчания и тишины, из той воздушной стихии, коею дышит и звучит орган, — и вновь перестает и опять возвращается в тишину... поэтому органная музыка изначально основывается на иных, нежели другая, категориях своего устроения и звучания. Орган есть всегда некоторая непосредственная и постоянная часть церковного или иного помещения, а не нечто временно и отдельно от него являющееся и преходящее. Органная музыка поэтому не "завоевывает" пространство, не внедряется в него, не "заявляет о себе", а помогает ему, этому целому, храмовой архитектуре, как бы зазвучать вместе с собой, а вместе и сама звучит в ней, становится звучащей архитектурой. Свободные органные сочинения в большинстве своем не имеют в своей основе каких-либо особо изощренных сложностей и контрапунктических хитростей, как можно было бы ожидать от органа как инструмента "сугубо полифонического". Она больше обращается к слуху, фантазии, воображению, чем к глазу и умозрению. Самые сложные фуги И. С. Баха, например, — клавирные, а не органные. А две вершины его контрапунктической мысли — "Искусство фуги" и "Музыкальное приношение" — вовсе не предназначены, как известно, ни для какого конкретного звукового воплощения, равным образом, не рассчитаны и на органное звучание. Органная музыка, даже и Баховская, гораздо легче для прочтения, осмысления и восприятия, чем Баховская же клавирная фуга, не труднее, наверное, чем любая из великих классических симфоний. В чем же тогда состоит эта мнимая и пресловутая "трудность для восприятия" органной музыки?
За вычетом хоральной музыки, которая, в силу разных причин, действительно сложна для современного слушателя (но она не подлежит здесь нашему разсмотрению), и того обстоятельства, что не везде этот, церковный по преимуществу, инструмент достаточно распространен и привычен, сложность восприятия органной музыки заключается не в ее собственном таком уж, якобы, сложном устроении, а именно в этой ее изначальной установке на церковность, соборность, на служение Богу. Служить Богу трудно, отвергнуть себя, душу свою потерять ради Христа — трудно! "Обычный слушатель", "человек с улицы", не Богомолец, придя в храм или органный зал —
развлечься, получить впечатление, расширить кругозор, обогатить душу сокровищами культуры — слышит вдруг звучания, как бы в него не вмещающиеся, ибо он не знает, откуда они приходят и куда уходят; чьи они, эти звуки, какому миру принадлежат, на что указуют, где отечество их? — этого он не знает, и потому ему кажется, что просто он такой вот необразованный для такой сложной музыки. Такой "человек с улицы" есть любой из нас, пока в тот или иной момент не станет, хотя бы чуть-чуть, Богомольцем, пока не соизмерится с органной музыкой ее же измерением, пока не преисполнится — хоть ненадолго! — тоской по ее Отечеству!
Прелюдия и фуга — два основных жанра свободной органной музыки, в которых представлены как бы две ее первоосновы, два основных состояния. Первая основа — начало звучания; часть пространства, будучи частью тишины целого, начинает в являющихся первых звуках выражать собою как бы внутреннюю наполненность, изначальный постоянный смысл этой тишины, постепенно и незаметно привлекая к себе внимание как к выразительнице целого... Так в звуковой среде прелюдии, в ее фигурациях и пассажах, в перекличках коротких маленьких и как бы незначительных мотивов скрытно созревает тема произведения. Тема эта в прелюдии диффузно сокрыта, она нигде и везде, скрывается от назойливого нотоискателя; но она есть и сияет, и не тускнеет ее сияние — для того, кто видит ее сердцем и воображением, чей слух и фантазия сливаются с оживающими немыми звуками тишины целого... И вдруг, в фуге, предстает очерченная и ясная тема! откуда она взялась?!. "И голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит..." Фантазия и сокрытость — две основные категории старинной органной прелюдии и одновременно — основные ее достоинства, за которые ее должно ценить. Если фантазией и можно, хотя тоже очень сложно, "пересолить", то сокрытостью — никогда! Чем больше вы удивитесь явившейся теме фуги, тем лучше удалась прелюдия — так мы решились бы сформулировать эстетический закон прелюдии. Но дело тут идет не о контрасте каких-то разных тематических идей, ибо и у Баха ведь в конце концов тема фуги является неожиданно — однако, после очень резко тематически очерченной прелюдии (в зрелых, особенно Ляйпцигских, произведениях). Старинная же прелюдия, как правило, ничего не хочет собою открывать и являть, и будет разочарован ею искатель "логических выведений" и "лейтмотивных откровений". Прелюдия есть дитя причудливой германской фантазии; ничего не потеряет тот, кто вовсе откажется видеть в ней какую-либо тему и ее развитие. Да этого и в самом деле в прелюдии нет! Ибо, как мы уже говорили, установка органной музыки состоит совсем в ином: в отвлечении слушателя от внешней обстановки, в отделении души его от внешних чувств, в создании такой особой звучащей музыкальной сферы, от которой ум и сердце могли бы вознестись в горняя — к Богу...
Но вот пред нами вдруг тема первой фуги. Почему первой? Старинные органные Прелюдии и фуги не были таковыми в современном (начиная с И. С. Баха) понимании. Это были многофрагментные (состоящие из 4, 5, 6 движений) пьесы, имеющие в основе своей форму канцоны. Они состояли после прелюдии из двух или трех фуг, перемежающихся по ходу пьесы интерлюдией и речитативом. После последней фуги (особенно если их было всего две) могла следовать постлюдия, которой и заканчивалось все. Но обо всем этом написано достаточно... Нас интересует здесь другое: роль и облик старинной фуги в подобного рода сочинениях. Фуга есть стержень, сюжет этой старинной канцонообразной пьесы. Сюжет состоит в превращениях темы. Интерес фуги заключается, следовательно, не столько в ней самой, сколько в осуществлении сюжета "сквозного действия". В некоторой мере в таком сюжетном характере слышатся отголоски евангелических ораторий, Страстей, в частности, может быть, Духовных симфоний Генриха Шютца. Гамбург, как известно, славился и своей оперой, правда, было это уже позже, на исходе XVII века. Фуга не есть некий процесс, осуществление, построение какой-либо музыкальной идеи (как у И. С. Баха), а движение, устремленная к дальнейшему часть целого сюжета; с темой, как правило, ничего не происходит (в редких случаях дается обращение), сюжет выстраивается цепью фуг, которую можно мыслить в этом отношении как единую целую фугу. Отдельные произведения этого рода, не лишенные изобразительного элемента, производят впечатление некоей "баллады" (обе ми минорные, особенно большая, пьесы Николауса Брунса). Для осуществления такой пьесы нужно было, конечно, определенное мастерство, ибо интерес "действия" с каждым движением должен был нарастать, пока наконец произведение не "разражалось" постлюдией, или последняя третья фуга не собирала всю мощь звучания для триумфального (как правило) общего завершения. Назовем это, впрочем, не мастерством, а мастеровитостью. Как и в хоральной музыке, так и здесь, в свободной, умение обращаться с мотивами, использовать каждую "крупицу", видение единого в разном (и розном!), значительного и явного в незначительном и скрытом стояло на высоком уровне. Школа? Да, конечно; в равной степени — национальная черта.
Итак, фантазия и мастеровитость — два основных начала старинного органного творчества, исходящие из основ и задач церковного органа, прежде всего отмечают и характеризуют органную музыку добаховской формации. В известной ограниченности и скромности ее средств скрывается как бы и некое смирение, не высказываемое понимание своей собственной — такой скромной и ответственной! — роли служанки Богослужения...
Но был один такой мастер, Дитрих Букстехуде (1637-1707), который возвысил этот музыкальный стереотип, обрисованный здесь в значительной мере по его же творениям, до уровня высокого художественного идеала.
И вот, двадцатилетний Иоганн Себастиан едет в Любек. Нам не известна степень его знакомства со знаменитым Любекским музикдиректором, вне всякого сомнения, он слушал игру великого мастера, присутствовал на его известных по всей стране Abendmusiken, но познакомился ли с ним лично, учился ли у него непосредственно?.. Попробуем с помощью фантазии восполнить неизвестное нам, представить себе, что же случилось с Бахом в Любеке, отчего он вместо месяца, отведенного ему на это путешествие, пробыл там (или еще где-нибудь? в Люнебурге?) целых три и после этого без особой охоты вернулся на место своей службы в Арнштадт?
Наверное, юному Баху все показалось там, особенно поначалу, какой-то рождественской сказкой. Вольный ганзейский край, приветливые и какие-то даже простодушные северяне, необычный ландшафт... Роскошный орган в церкви Марии и... завораживающая, ни с чем не сравнимая, ни на что ранее слышанное не похожая и как будто подымающая от земли и уносящая с собою — туда ввысь, на хоры и еще выше, и в иной, горний мир зовущая — игра маэстро! Бах был потрясен, он действительно ничего такого ранее не слышал! Он своим цепким и всепроникающим слухом (которым и в свои 20 лет, наверное, обладал!) уже до их встречи услышал и понял многое, что его покорило, взяло в плен... а затем было и знакомство. Да, оно было! Баха неизвестно каким образом принесло на хоры, и он, что-то бормоча и запинаясь, выразил маэстро свое восхищение! И маэстро тоже — неизвестно, каким уж образом
! — почувствовал, что перед ним не просто мальчик... И как-то без лишних слов, дружески обняв, пригласил приходить, слушать игру... И Бах еще слышал его, и он открыл юноше какие-то из своих "секретов" — с какой-то даже странной в таком знаменитом человеке немногословной застенчивостью... и все это было так сердечно и просто и — так необычно!.. Потом был, быть может, Люнебург, был Георг Бем, и Бах многому научился у него, но такого! — такого уже не было...Что же так пленило Баха, что услышал он, что заставило его, презрев германскую дисциплину, два месяца сверх отведенного ему срока (о ужас, представьте только себе!) не являться на работу и пропадать где-то за 300 с лишним верст в другом совсем герцогстве и уж как минимум графстве?!.
Притом же Бах в свои 20 лет многое уже знал и умел, более того — сам успел уже зарекомендовать себя как даровитый и вполне законченный музыкант: знал много музыки чужеземной, знал, конечно же, и северогерманскую композицию — хоральную и свободную, хорошо фантазировал, владел и хроматической гармонией (о чем свидетельствуют упреки начальства в "чуждых нотах" при сопровождении хорала). Словом, удивить его было очень даже не просто. И тем не менее, с первых же звуков он весь превратился в слух. Что это за необыкновенно певучий орган?
! Но нет, — это поет игра маэстро! Да, все поет и говорит, “словесит” — не только в этих поразительных речитативах; но и в фуге даже слышится как будто какой-то речитатив (См. Прелюдия и фуга ми минор, К.II,5, I, и II фуги).Никаких французских украшений
, так знакомых Баху по музыке Бема, почти полное отсутствие французских фигур вообще, а зато – эти, такие редкостные здесь на Севере, итальянские фигуры и хроматизмы! Откуда здесь они? И как живо цветут они и сплетаются воедино с исконно немецкими мотивами! Никаких этих острых немецких углов, а притом какая немецкая музыка! И как полно через это вот пение живет, дышит и движется весь “сюжет”!Возьмите хотя бы два отрывочка из Прелюдии фа-диез минор:
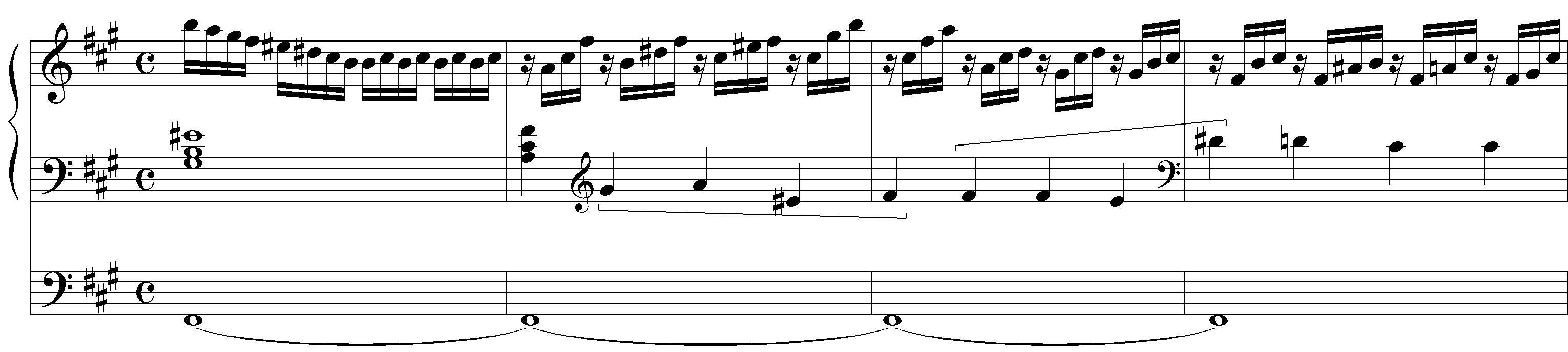
и:

и вслушайтесь в отмеченные скобками мотивы – как возникают они как бы “из ничего”, из молчания тишины в первом приведенном нами отрывке, сокрываются в “аккордовом хоре” во втором, а затем, высвободившись из “аккордовых” пут, вдруг величаво выступают в теме первой фуги:
(Полный текст см в
zip-файле).